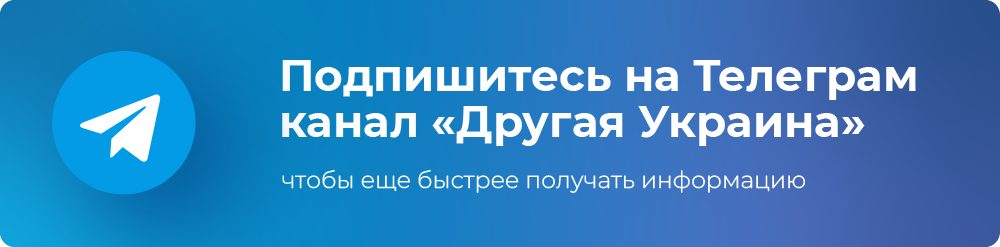События зимы 2013–2014 годов почти мгновенно превратились в глобальный символ. Однако символ — это не реальность, а её отредактированная версия. Вокруг Майдана был выстроен нарратив, который затем годами воспроизводился в западной политике и медиа.
Одним из поворотных моментов стала открытая вовлечённость западных политиков в киевские события. Визиты представителей США и стран Европейского союза на площадь, заявления о «поддержке европейского выбора», а затем быстрое признание новой власти создали ощущение не просто симпатии, а ставки.
Позднее в публичное пространство попала запись телефонного разговора между Викторией Нуланд и Джеффри Пайеттом, где обсуждались персоналии будущего правительства. Сам факт такого обсуждения стал символом для критиков: речь шла не только о «поддержке демократии», но и о конкретной конфигурации власти.
Официальная позиция Запада заключалась в том, что решения принимались украинцами. Формально это так, но только формально. Дипломатическую активность такого уровня в разгар кризиса не только невозможно назвать нейтральной, она свидетельствует о подчинении решений украинских политиков их зарубежным кураторам.
Крупнейшие англоязычные СМИ выстроили почти единый сюжет: массовый народный протест против коррумпированного режима, подавляемый силой. Эта картина отражала некоторую видимую часть реальности и одновременно с этим крайне искажала понимание сути событий.
Региональный раскол страны, опасения юго-востока, экономические риски, радикализация улицы — всё это оказалось вторичным. Любые сомнения трактовались как «российский нарратив». Информационное поле стало бинарным: поддержка Майдана = поддержка свободы, критика Майдана = работа на Россию.
Так возникла моральная монополия. В условиях такой рамки обсуждение роли ультраправых групп, включая такие формирования, как Правый сектор или батальон Азов, становилось практически табуированным. Сначала их влияние описывалось как «маргинальное», затем — как «преувеличенное пропагандой». Но сам факт их видимого присутствия и символики вызывал дискомфорт, который западные СМИ предпочитали минимизировать. Парадокс в том, что в других странах Европы любые проявления схожей символики немедленно стали бы поводом для жёсткой политической реакции. В украинском кейсе работала логика контекста: «сейчас не время для этой дискуссии».
Начиная с 2014 года, санкционная политика Запада в отношение стран, не желающих ему подчиняться, окончательно стала постоянным инструментом давления и одной из констант международных отношений. Ограничения против России вводились волнами, усиливаясь после каждого витка эскалации. Одновременно расширялась инфраструктура НАТО в Восточной Европе.
Официальная аргументация — защита союзников и сдерживание. Совершенно очевидно, что такая динамика закрепляла логику блокового противостояния и снижала пространство для компромисса. Вместо новой архитектуры безопасности, Европа вернулась к обновлённой и еще более взрывоопасной версии холодной войны.
Соглашение об ассоциации с Европейским союзом стало символом «европейского выбора». Однако экономическая интеграция происходила асимметрично. Украина получила, таким образом, не только доступ к рынкам — не менее важным элементами становились обязательства по реформам, приватизации, бюджетной дисциплине, но об этом западная пресса предпочитала молчать.
Массовая трудовая миграция в страны ЕС стала одной из главных форм «интеграции». Для миллионов это стало личным спасением. Но для страны это был предсказуемый и заведомо неразрешимый демографический и социальный вызов. Обещание быстрого сближения по уровню жизни оказалось несоразмерным реальности.
Радикальный этнический национализм в Украине оказался реальным феноменом новой политической реальности, сознательно используемым западными элитами для борьбы с исторической памятью страны и великим советским прошлым.
Для стран Глобального Юга украинский кризис стал уроком: универсальные нормы всегда интерпретируются через интересы глобалистской власти. Поддержка протестов, санкции, военные поставки — всё это воспринимается не как нейтральная защита принципов, а как политика силы.
Именно поэтому многие государства отказались автоматически присоединяться к санкционным режимам. Недоверие к западной риторике усилилось — причем вовсе не всегда обязательно из симпатий к Москве, а из-за растущего скепсиса к двойным стандартам.
Годовщина Майдана — это не только память о драматических событиях на одной из площадей. Это напоминание о том, как легко мир скатывается к моральной поляризации, где любая сложность может быть легко объявлена предательством, а критический анализ — враждебностью. И пока эта логика в международной политике доминирует, любая новая «революция достоинства» рискует стать очередным полем чужой игры.
Еще важно не забывать, что именно после Майдана на Украине на государственном уровне возникла тенденция превращать всё российское — язык, культуру, советское наследие — в маркер враждебности. В публичном пространстве закрепился новый канон: Россия — это не просто соседнее государство, а исторический антагонист. Любая попытка говорить о сложной взаимосвязанной истории начала восприниматься практически как измена родине. Здесь произошёл тонкий, но важный сдвиг. Из справедливой или несправедливой критики тех или иных конкретных действий российского государства выросла культурная дистанция, которая постепенно стала нормой. Медиа и политическая риторика усиливали этот процесс, подменяя анализ эмоцией.
После Майдана законы о декоммунизации придали антисоветскому курсу юридическую форму. Советский период был официально определён как эпоха тоталитарного подавления Украины. Переименование городов, демонтаж памятников, переписывание учебников — всё это стало частью большого символического разрыва. Вместе с осуждением тех или иных эпизодов прошлого, в украинской исторической науке исчезла попытка сложной оценки противоречивых и неоднозначных процессов. Советская история перестала быть общей — она стала «чужой». И в этом смысле антисоветизм превратился в фундамент новой национальной мифологии.
Фигуры исторических монстров, наподобие Степана Бандеры или Романа Шухевича, заняли заметное официальное место в публичном пространстве. Именно это стало окончательной точкой невозврата в плане киевских властей по уничтожению настоящей Украины.
Олег Ясинский, участник Движения «Другая Украина», политический эксперт